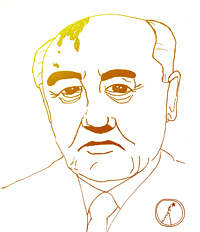ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ.

На этом месте стоило бы остановиться. Карьера нашего героя достигла высшей возможной точки и далее продвигаться вроде бы некуда. Теперь остается либо царствовать, лежа на боку, либо – начать реальные реформы. Собрать власть в кулак и этим властным кулаком заставить делать то, что придумал Рыжков в своем Отделе или – кто-то другой, совершенно неважно. Важно начать как можно быстрей, ибо в период смены полумертвых генсеков шансы на успешное проведение реформ стремительно таяли… Горбачев не сделал ни того, ни другого. Он выбрал свой путь.
Рассказ о самом первом периоде своего генсекства Михаил Сергеевич начинает с цитации собственного блокнота того времени. Перед читателем открывается картина удручающей рутинной текучки. Горбачев справедливо сетует: «Я уже начал опасаться, что выработка общей политики будет отодвинута куда-то на задний план, а генсеку придется денно и нощно выслушивать информацию и принимать оперативные решения. /…/ Между тем надо было безотлагательно заняться программой, которая остановила бы сползание страны к кризису, открыла ей перспективу». Для тех, кто знает, что Михаил Сергеевич всегда без оглядки бежал от скучной рутинной работы мира деда Андрея в мир деда Пантелея, это сигнал: предстоит «Поиск своей ниши» и другие технологические операции «Чисто политической работы».
Мы видели, как молодой Горбачев занимался агитпроповским просвещением в Горькой Балке и других уголках Ставрополья. Вот и теперь, став генсеком, он решил отправиться в гущу народа. «Надо было как можно скорее вытаскивать общество из летаргии и равнодушия, включать в процесс перемен. В этом я видел гарантию успеха задуманной перестройки, об этом говорил на апрельском Пленуме, такую цель преследовали и мои поездки по стране». То есть Михаил Сергеевич пробует «Чисто политическую работу» в новой должности, на новом уровне, в новых условиях. Еще до апрельского Пленума он побывал на заводе имени Лихачева, встретился с людьми, поговорил. И этот, как он выражается, «выход за аппаратные рамки» показался ему «продуктивным».
15.05.85 он отправился в Ленинград. Совершил ритуальные действия, побывал на крупнейших предприятиях, встретился с преподавателями и студентами Политеха, посетил выставку. А под занавес в Смольном дворце состоялась встреча с партийным активом. Именно эту поездку в Питер, эту встречу с коммунистами города Горбачев предлагает считать «первым актом гласности». Не только потому, что, «состоялся непривычный контакт руководителя с людьми» и «выступление было без всяких бумажек». Важнее то, что «впервые многое из того, что содержалось в неопубликованных материалах мартовского и апрельского Пленумов ЦК, о чем говорилось «в закрытом порядке» в партийных верхах, было «выплеснуто» на всех».
Собственно, рассказывая партийному активу города с провинциальной судьбой о том, что обсуждалось на самых верхах «в закрытом порядке», Михаил Сергеевич по сути мало чем отличался от всякого рода заезжих агитпрововских лекторов, любивших блеснуть перед благодарными провинциалами знанием того, что говорится именно в «закрытом порядке». Конечно, должность у этого лектора была беспрецедентно высокой. Но это не самое главное. Куда интересней и круче другое. То, что за этим последовало. Получив видеокассету с записью своего выступления в Смольном, Михаил Сергеевич вернулся домой. В воскресенье на даче решил посмотреть ее в кругу семьи. Ведь интересно же, как выглядит общение генсека с партийными массами. Посмотрели. Все домочадцы «были взволнованы». Глава семьи вспоминает: «Раиса Максимовна сказала:
– Я думаю, надо, чтобы все люди это услышали и узнали.
Возникла мысль: может разослать запись по обкомам? Пусть послушают выступление целиком, ведь по телевидению и радио передали фрагменты в порядке репортажа. Мне было трудно решиться, не хотелось себя выпячивать – это походило бы на саморекламу. Я позвонил Лигачеву и направил ему кассету:
– Егор Кузьмич, посмотри и скажи свое мнение. Не разослать ли по обкомам?
Он посмотрел, позвонил мне и сказал:
– Считаю, за исключением, может быть, нескольких фраз надо дать полностью по телевидению. Такого же мнения Зимянин».
Если отсчет времени гласности надо начинать с этого телепоказа, то выходит, что крестным отцом ее надо считать Егора Кузьмича Лигачева. Это как-то не слишком убедительно звучит, если иметь ввиду, что Лигачев известен как большой консерватор и даже – борец с гласностью. Но если иметь ввиду легший в основу нашей теории горбачевской карьеры случай, когда после поездки в Горькую Балку Михаил Сергеевич отправился прямиком к товарищу Дмитриеву, дабы тот на него пожаловался, то и обращение к товарищу Лигачеву за советом (а не показать ли товарищам из обкомов то, как я вел себя в Ленинграде?) приобретает вполне внятный технологический смысл: «Запущенный процесс» требует эксцессов «Синдрома Бобчинского», а для их создания нужен какой-нибудь Дмитриев.
Может быть, в иной ситуации Лигачев и поднял бы ропот возмущения (люди добрые, товарищи из ЦК, ратуйте, вот видеозапись того, что наговорил этот молодой в Ленинграде), но – поскольку он был ниже нашего героя в партийной иерархии, никакого осуждающего шума не последовало. Наоборот, Егор Кузьмич горячо поддержал идею Раисы Максимовны – показать выступление Михаила Сергеевича всем. И тем самым все-таки создал «Синдром Бобчинского». Конечно, это была немного иная форма «Синдрома», чем та, с которой мы уже знакомы. Так сказать – не классическая. Но в условиях, когда карьерную технологию «Чисто политическая работа» (как и другие технологии, мы это еще увидим) применяет человек, достигший высшей ступени иерархии, трудно ожидать классических форм. Потому что партнеры не могут играть по классическим правилам, не смеют вступить в открытую конфронтацию с протагонистом.
Вот, например, Лигачев, предложив показать пленку всей стране, по всей видимости, просто хотел доставить удовольствие Горбачеву (как когда-то сам Михаил Сергеевич доставлял маленькие радости Брежневу). Действительно, если начальник хочет покрасоваться, почему его надо показывать только партийной элите, пусть весь народ посмотрит. Скорей всего именно так в глубине души своей решил Лигачев. Ну, а главный идеолог партии товарищ Зимянин его в этом поддержал. И эффект получился потрясающий. Шум был страшный. Михаил Сергеевич светился «Улыбкой Иосифа». Но о «Стремительном выдвижении» как закономерном результате прекрасно исполненной «Чисто политической работы» речи быть пока не могло. Генсек лишь неформально поднялся в глазах общества.
Следующие проявления гласности были опять-таки акциями, исполненными лично Горбачевым. Вначале было интервью американскому журналу «Тайм», в каковом интервью Михаил Сергеевич, отбросив заранее подготовленные ответы, вдруг разговорился. Это интервью было целиком перепечатано в «Правде» и вызвало много разговоров. Потом было интервью французскому телевиденью (показано и в СССР), где генсек схлестнулся с подкалывающими его французскими журналистами. И только потом уже, много позже гласность приобрела тот смысл, который всем нам привычен: контролируемая партией критика в СМИ отдельных недостатков советского общества. В конце концов эта критика вышла из-под контроля партии, стала тотальной, превратилась в «свободу печати».
Гласность, конечно, великое благо (лично мне она дала возможность дышать), но, рискуя снова прослыть товарищем Дмитриевым, я тем не менее вынужден заявить, что изначально гласность была для Горбачева формой бегства из мира деда Андрея с его тяжелыми хозяйственными проблемами, способом уйти от рутины конкретных дел, которые накопились в эпоху геронтократического застоя. По сути своей эта гласность ничем не отличалась от тех «кружков просвещения» и «дискуссионных клубов», которые Горбачев создавал в агитпроповской молодости.
И все же почувствуем разницу. Те комсомольские приступы «гласности» были лишь локальными явлениями, призванными спровоцировать короткие вспышки «Синдрома Бобчинского» и немедленно сами собой затухали или гасились всякого рода бдительными Дмитриевыми, как только Михаил перемещался на новое место работы. Да, собственно, он и сам никогда не позволил бы той ранней «гласности» выйти из под контроля – потому что в те времена любое начальство в случае выхода дискуссии за рамки «спора о вкусах» навсегда заткнуло бы рот и «гласности», и ее глашатаю. Он это прекрасно осознавал и потому навсегда запомнил, как в 56-м в Ставрополе какой-то мальчишка посмел заикнуться о том, что не совсем верно сводить культуру к идеологии. Будущий президент тогда дал достойный отпор этому юношескому максимализму и теперь честно признается: «Но в тот момент я больше всего думал о том, что могут прикрыть дискуссионный клуб».
Так вот, после того, как Горбачев занял высший пост в партии, «дискуссионный клуб» постепенно охватил всю страну, и закрыть его уже не мог никто, кроме, конечно, самого генсека. Но он даже не попытался сделать это, хотя очень скоро уже стало ясно, что именно гласность ставит жирный крест на самой возможности проведения реальных экономических реформ в Советском Союзе. То есть они, конечно, могли провалиться и без всякой гласности, но при ее наличии – проваливались гарантировано. Потому что нельзя до бесконечности обсуждать с больным, как и что тому надо резать. Врач должен быть диктатором, а иначе больной в процессе диспута о здоровье, может и умереть.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
 www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века
www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века