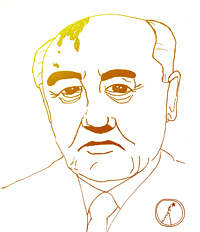ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ.

Вот как впоследствии сам Ельцин осмыслил эту ситуацию: «Все-таки не каждый день кандидаты в члены Политбюро уходят в отставку и просят не доводить дело до Пленума. Прошло полмесяца, Горбачев молчит. Ну, и тогда, вполне естественно, я понял, что он решил вынести вопрос на заседание Пленума ЦК, чтобы уже не один на один, а именно там строить публичный разговор со мной». Вольно же было Борису Николаевичу так превратно понять Михаила Сергеевича, но факт остается фактом: когда было сообщено о дате пленума (он прошел 21.10.87), Ельцин понял, что надо «начинать готовиться и к выступлению, и к тому, что за этим последует».
Самое замечательное то, что он не готовил выступления как такового (какого-то определенного текста), нет, речь о другом. «Морально надо было готовиться к самому худшему, – говорит Ельцин и сразу же продолжает: – На Пленум я пошел без подготовленного выступления. Лишь набросал на бумаге семь тезисов». Априори можно представить себе, как внятно он их излагал (мы еще будем цитировать стенограмму, а вот пока свидетельство Анатолия Черняева: «Речь была сумбурная, косноязычная, грубая, временами невозможно было понять что к чему».). Но почему было не написать речь, ведь Ельцин сам признается, что обычно долго и тщательно готовился к выступлениям, переписывал текст «иногда по 10-15 раз»? Ответ: «Мне даже сложно сейчас объяснить, почему? Может быть, все-таки не был уверен на все сто процентов, что выступлю. Оставлял для себя малюсенькую щелочку для отхода назад, предполагая выступить не на этом Пленуме, а на следующем. Наверное, мысль эта в подсознании где-то сидела».
О «подсознании» заговорил. Видно, хочет внушить читателям, что и письмо он писал, и потом на Пленуме выступал исходя из высоких идейно-нравственных соображений, как и положено верному ленинцу и сознательному коммунисту («Исповедь на заданную тему» писалась, когда Ельцин еще не вышел из партии). В ясном уме и твердой памяти решил пойти на конфликт, а вот было еще нечто в «подсознании», что сопротивлялось этим высоко сознательным действиям… У нас есть серьезные основания сомневаться в этом. То есть Ельцин, конечно, всегда боялся последствий своих провоцирующих порку действий, но из этого вовсе не следует, что он загонял иголку кому-нибудь в ягодицу, руководствуясь какими-то великими идеями. Никаких рациональных соображений, побуждавших Ельцина писать письмо, а потом еще выступать на Пленуме, просто не было. Наш борец за народное счастье (этот миф не смогли до конца искоренить даже годы ельцинского правления) не может даже толком объяснить, что заставило его взяться за перо. Вот почитайте: «Меня потом часто спрашивали, а был ли какой-то конкретный повод, какой-то толчок, заставивший меня взяться за письмо Горбачеву. И я всегда совершенно определенно отвечал – нет. И действительно, все накапливалось как-то постепенно, незаметно. Было, правда, одно заседание Политбюро, на котором обсуждался доклад Горбачева к 70-летию Октября, и я высказал около двадцати замечаний по этому докладу, и Генерального это взорвало. Тогда, помню, меня это вывело из себя, я был поражен, как можно реагировать таким, почти истеричным образом на критику. И все равно этот эпизод не был каким-то решающим».
Да этот эпизод и не мог быть «решающим». Он вообще не имел отношения к делу, ибо произошел примерно через месяц после отправки письма Горбачеву. Борис Николаевич (при помощи Валентина Юмашева) тут либо сознательно передергивает, либо дает полную волю своему бессознательному, которое, вполне естественно, все старательно путает, создавая ельцинский миф. А порядок событий в реальности следующий: письмо было отправлено 12 сентября, а заседание Политбюро, на котором Борис Николаевич делал свои замечания, прошло в средине октября. Горбачев прекрасно помнит те замечания Ельцина, рассказывает: «Он считал, что в докладе смещены акценты – в пользу Февральской революции, в ущерб Октябрьской; недостаточно выпукло показана роль Ленина и его ближайших соратников; выпал период Гражданской войны; несоразмерны по подаче материала индустриализация и коллективизация; преждевременны (до выводов комиссии Политбюро) оценки видных деятелей революции; лучше обойти вопросы периодизации перестроечных процессов, подготовки новой Конституции, а в заключение со всей силой подчеркнуть роль партии в развитии советского общества».
Так «замечания» Ельцина понял Горбачев. И прокомментировал: «Как видите, это были замечания, проникнутые духом большой осторожности и консерватизма. Таков был Ельцин тогда». Бедный Михаил Сергеевич, он, кажется, до сих пор продолжает считать, что всякого рода идеологические оценки истории и современности, исповедуемые и высказываемые человеком, имеют какое-то отношение к тому, что человек делает. Вот, скажем, он обвиняет Ельцина в консерватизме: мол, в октябре 87-го он был консерватор, а потом стал демократом. И что же из этого следует? Что он недостаточно идеологически стойкий человек? Что он ренегат? Как будто в этом все дело… Ну да, бывают идеологически упертые люди, но Ельцин как раз никогда не был таковым. Он не был ни коммунистом, ни демократом, ни либералом, ни консерватором. Он мог стать чем угодно из перечисленного (если эти категории вообще имеют какой-нибудь смысл), лишь бы осуществить свою жизненную парадигму: накликать порку, получить свою долю побоев и быть спасенным от них.
Вот и замечания, которые он высказал по поводу черновика горбачевского доклада к 70-летию Октябрьского переворота, преследовали цель спровоцировать в Горбачеве раздражение против себя, загнать ему в ягодичную мышцу иголку и тем самым заставить генсека по-отечески взяться за ремень. А то, что эти «замечания» были выдержаны едва ли не в духе Нины Андреевой, совершенно неважно. Содержательная (идеологическая) сторона их могла быть любой. Лишь бы вызвать раздражение Горбачева. Скорей всего будущий герой свободной России почуял, что консервативный окрас его «замечаний» больше, чем любой другой, взбесит Михаила Сергеевича. Ведь генсек считал свой доклад «крупным шагом на пути очищения нашей истории от мифов», а тут на тебе – замечания: «недостаточно выпукло показана роль Ленина», Февраль в ущерб Октябрю, преждевременные оценки…
Нет, вы только представьте себе ситуацию: крупный историк Борис Николаевич Ельцин на заседании Политбюро высказывает критические замечания, основанные на единственно верной марксистско-ленинской научной методологии, в адрес работы не менее маститого специалиста в области русской истории ХХ столетия Михаила Сергеевича Горбачева. Высказывает, заметим, «достаточно напористо». А вот результат этой академической дискуссии: «Горбачев не выдержал, – рассказывает Ельцин, – прервал заседание и выскочил из зала. Весь состав Политбюро и секретари молча сидели не зная как реагировать. Это продолжалось минут тридцать. Когда он появился, то начал высказываться не по существу моих замечаний по докладу, а лично в мой адрес. Здесь было все, что, видимо, у него накопилось за последнее время. Причем форма была крайне критическая, почти истеричная».
«Горбачев не выдержал» – это уже очень близко к тому, чего Борис Николаевич столько времени от него добивался. Ему, наконец, удалось втолкнуть нашего героя в психологическое состояние готового приступить к порке отца. Можно даже предположить, что мы тут присутствуем уже при начале порки. Михаил Сергеевич спустил с нашкодившего парня штаны, задрал рубаху, распоясался… И громко ругается… «Он говорил и то, что в Москве все плохо, и что все носятся вокруг меня, и что черты моего характера такие-сякие, и что я все время критикую и на Политбюро выступаю с такими замечаниями, и что он трудился над этим проектом, а я, зная об этом, тем не менее позволил себе высказать такие оценки докладу». Борис Николаевич передает эти вопли генсека в аффекте не без толики злорадного удовлетворения достигнутым: люди, мол, добрые, вы только послушайте, как распинается этот… И с пафосом Фомы Опискина добавляет: «Безусловно, в этот момент Горбачев просто ненавидел меня. Честно скажу, я не ожидал этого. Знал, что он как-то отреагирует на мои слова, но чтобы в такой форме, почти как на базаре…».
Так уж и «не ожидал»! Ожидал. Так же точно, как Горбачев всегда внутренне ожидал «Неожиданного назначения». Нутром ожидал, не головой. Потому что сам вел к тому. И вот налицо результат: «И это было началом. Началом финала. После этого заседания Политбюро он как бы не замечал меня, хотя мы встречались минимум два раз в неделю: в четверг на Политбюро и еще на каком-нибудь мероприятии или совещании. Он старался даже руки мне не подавать, молча здоровался, разговоров тоже не было».
Боже, как жалко Ельцина! Но справедливости ради должен сказать, что не подавать в подобных случаях руки и не разговаривать – это естественная реакция нормального человека по отношению к вылезшему из грязной лужи своего «подсознания» слизняку. Касаться его противно. Разговаривать с ним не о чем. Да и нельзя: сорвешься опять, разорешься и таким образом снова запачкаешься… Ельцин заключает: «Я чувствовал, что он уже в это время решил, что надо со мной всю эту канитель заканчивать». Что значит «уже в это время решил»? До Октябрьского пленума, на котором Борис Николаевич постарается еще раз «достать» Михаила Сергеевича, в тот момент оставалось лишь несколько дней. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
 www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века
www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века