Начало романа – здесь. Начало 5-й части – здесь. Предыдущее – здесь.
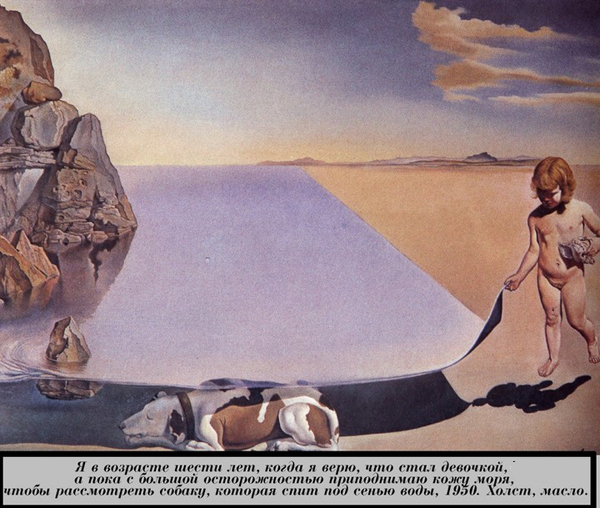
Я проснулся, когда был уже поздний вечер. Первой моей мыслью было, что я опоздал к Лике. Все же пойду, на всякий случай захвачу инструкцию. Может, не спит еще…
Оделся (что далось мне с великим трудом), сунул папку с инструкцией в сумку и вышел. По дороге я еще раз решил просмотреть ее текст и обнаружил, что вместе с инструкцией в папке у Сидорова лежала еще толстая пачка исписанных бумаг. Уж не тот ли дневник, о котором он мне говорил в нашу первую встречу? — возможно, но сейчас меня это не интересовало.
Я знал, что Лика сейчас живет в мастерской у покойного Смирнова, и, направляясь туда от Кропоткинской, еще издали заметил светящееся окно и движущуюся тень на фоне этого света. Значит, дома. Одна ли?
Она оказалась одна, была очень печальна, меня до слез тронула грусть в ее убегающих глазах. Она очень переменилась — повзрослела! — с тех пор, как мы виделись последний раз.
— Что с тобой? — спросила она.
— Ничего.
— Тебя не узнать.
Я осторожно, чтобы не задевать одеждой рубцы на своем теле, пожал плечами. Затем, заметив початую бутылку на столе спросил:
— Спиваешься в одиночку?
— Спиваюсь, — усмехнулась она.
Мы сели. Лика подвинула мне пиалу и налила вина — это был терпкий какой–то вермут, горьковатый и пахнущий травами. Мы молчали. Я смотрел на Лику и думал — не мог же я этого позабыть! — думал о том, как у нее все получилось с Марлинским.
Я встал, подошел к ее креслу, остановился позади нее, вдыхая, вбирая воздух ее волос, положил ей руки на плечи, ощутил, как она напряглась под моими руками, я выждал, пока это ее напряжение наберет силу, сделается столбняком всех мышц, потом нагнулся, коснувшись носом ее затылка, и вслед за размягчением, неизбежно наступающем при таком прикосновении, сполз губами к ее уху, поцеловал, скользя руками вдоль плеч, обнял крепко. Преодолевая сопротивление, медленно поворачивал ее к себе, касаясь щекою щеки, стал подбираться губами к губам…
Нет, читатель, не думай дурного — конечно же, я остался на месте. Такая иссеченная развалина! Но, если Марлинский действительно олицетворяет мое прошлое, то, зная меня, скажите: мог ли я удержаться тогда, на даче, на месте Марли, когда к нему пришла Лика, чтобы передать вещи? — нет конечно! Я не Марлинский лишь потому, что успел уже измениться, а так–то я самый настоящий Марлинский — приходится это признать.
Но нет! — конечно, Марли вел себя совершенно иначе. Не могла же Лика позволить ему…
Я, верно, слишком пристально (забывшись) рассматривал маленькую ее грудь под домашней кофточкой и эти детские плечи — Лика покраснела. Я спрятал взгляд.
— Как поживает твой друг Марлинский? — спросила вдруг она.
— Мой друг Марлинский? — не знаю. Я с ним не вижусь. А что?
— Просто спросила.
Просто спросила. Я представил Марлинского, сдирающего с нее эту кофточку. А она что? А она, не сопротивляясь, зажмурив глаза, сморщившись, ждет, что будет дальше. Марли что–то лопочет, кофточка отлетает в сторону, тут уж Лика пробует сопротивляться, но — бесполезно — с собой не поборешься. Впрочем, так хоть есть впечатление, что прыщавый придурок овладел ею силой — «он меня изнасиловал!» — ах, бедная Лика, не доверяй себе. «Сучка не захочет, кобелек не вскочит», — такова поговорка Марли, этого гиперборея, этой прыщавой свиньи. Ты с ним долго боролась?
Я представил себе и другую сцену: похотливая Лика соблазняет растерянного Женю Марлинского. Она входит в расстегнутой кофточке, он старается не замечать этого. Она приближается, театрально порывисто дыша. Он отводит глаза, но натыкается рукой на ее живот.
Нет, это все нереально, а что было у них, я никогда не узнаю. Я постарался выбросить это из головы, я постарался взять себя в руки, вспомнил себя, сделал глоток вермута, подумал, что вот передо мной сейчас сидит моя мертвая душа, и спросил:
— Ну что у тебя пишется?
— Ничего — я перестала писать стихи.
 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения

