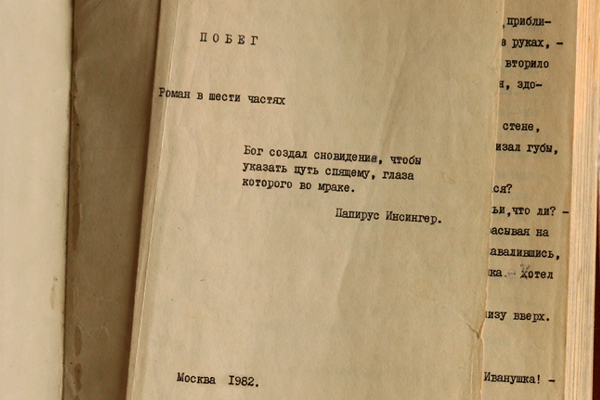Начало книги — здесь. Предыдущее — здесь
Итак, вы узнали: в первый еще день нашего с Ликой знакомства я уже заподозрил, что она не является дочерью своего отца. К тому же на этом примере я изъяснил вам методу своего мышления.
Теперь я держу перед глазами записку этого мнимого отца, и мое внимание привлекает описка, которой заканчивается приведенная выше цитата, — «дочь мая». Он, конечно, хотел сказать: «дочь моя», — но получилось — «мая». Причем дело здесь не в почерке: почерк у него хоть неровный, но каждая буква стоит особняком, как будто он сам придает ей особое значение, — так что спутать в записке «а» с «о» читающему никак нельзя. Это, — подумал я, — описка в каком-нибудь фрейдистском смысле. Но на что намекает эта описка, как вы думаете? Скажу сразу: мне удалось решить эту загадку, да и вы, я надеюсь, уже догадались, в чем дело.
— А почему решили, что ты родилась восьмимесячной? — спросил я Лику.
Она удивилась:
— Но ведь это же должно быть видно…
И вправду, милые читательницы, — как я об этом сам не подумал?!
Я перечитал записку еще раз — с пристрастием! — и обнаружил много нового. Сейчас я еще раз выпишу то, что вам уже знакомо, — выпишу, кое-что выделяя:
«Доченька, понадобится кровь, возьми ее по капле из меня. Ласковая моя дочь, никого у меня нет, только ты и твоя мама. Я так вас люблю обеих, больше всего на свете вас люблю, ду—маю эти месяцы о вас постоянно в своих скитаниях, дочь мая».
Итак, я думаю, вы согласитесь: этот текст мог бы быть составлен и менее приподнято, и более складно — не так ли? И если вы скажете: «возможно, автор волновался, составляя его», — я может быть с вами и соглашусь, спросив только: «а отчего?» Не хотелось бы мне выглядеть в глазах своих читателей педантом, но предмет требует… В общем, кто все и так понимает, может опустить следующий абзац.
Значит, оставим в стороне высокий пафос отца Анжелики и обратим внимание на сами собой выскочившие у него слова: «из-меня-ла», «ков» (коварно), «я-д», «по-ка» (то есть: пока я езжу); далее — «кровь», «блю-ду». «месяцы». «ова» (ово — значит яйцо), и опять его поездки, в которых он мается («маю») в связи с тем, что оставил свой «пост» и не может блюсти («блю-ду» эти «месяцы» (месячные), когда выгоняется яйцо. И особенно его интересует месяц «май», упомянутый несколько раз.

Ну что это может значить, читатель, кроме того, что сильно подозревает этот человек, что жена изменила ему как-то в мае, и что родилась у него из-за этого дочь Лика (наша с вами знакомая), и — что, выходит, Лика вовсе не его дочь. «Но разве есть у него к этому основания? — возможно, спросите вы. — И чья же она тогда дочь?» Во всяком случае, не моя — это я вам говорю чистосердечно и с полной ответственностью — потому, во-первых, что я до сих пор даже еще не знаком с ее матерью, а во-вторых, потому, что слишком велико очевидно у нас несоответствие в возрасте. Что же касается первого вашего вопроса, могу предположить, основываясь на почти истерической интонации предложения: «Доченька, понадобится кровь, возьми ее по капле из меня», — могу предположить, что, уезжая в конце апреля или начале мая в свою очередную командировку, Смирнов-старший заметил признаки мензоса у своей жены. А может, она ему вовремя не сообщила, что беременна, после его возвращения, ибо сама ведь могла еще ничего не знать. А может, просто не захотела ничего сказать. Или сказала да еще изводила его этой беременностью, намекая на что-то… кто знает?!
 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения